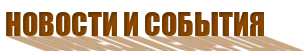Отличается умом и сообразительностью: символический полет ворона сквозь эпохи
Это дивная, но не жирная птица

EN

Культурная история ворона — третья монография из «животного» цикла французского медиевиста Мишеля Пастуро, ранее уже рассмотревшего символическое значение волка и быка, а в перспективе планирующего изучить лису, орла, оленя, осла и петуха как персонажей европейского «опорного бестиария». Под ним Пастуро подразумевает своего рода пул избранных животных, привлекающих повышенное человеческое внимание. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».
Мишель Пастуро
«Ворон: культурная история»
М.: АСТ: Лед, 2025. — Предисловие М. Р. Майзульса; [пер. с французского Дениса Голованенко]. — 192 с.
Как уточняет в предисловии к «Ворону» Михаил Майзульс, отношения человека с другими населяющими планету видами не сводятся к утилитарным целям, но обрастают идеологией: «…политика человека по отношению к различным животным определяется не только его желанием использовать их мясо, кожу, мех, жир, кость, перья и мускульную силу или, наоборот, стремлением от них защититься, но и моральными свойствами, которые им приписывают разные мифологии и религии».
С моральным обликом у ворона примерно такая же проблема, что и у волка: оба ассоциируются скорее с пороком и злом, чем с добром и светом. В случае с вороном так повелось еще со времен Всемирного потопа — это один самых важных сюжетов в книге Пастуро, разграничивающего уважительное отношение к ворону в языческих культурах и враждебную к нему библейскую традицию. В христианской парадигме репутацию ворона подмочила история с Ноем, после потопа пославшим на разведку двух птиц — прежде голубя искать пригодную для обитания землю отправился ворон, но не справился с заданием: «…когда буря утихает, Ной выпускает ворона узнать, спала ли вода, но вместо того, чтобы сообщить благую весть, тот задерживается, чтобы полакомиться падалью. Такое эгоистичное поведение вкупе с некрофагией на долгое время поместило его в число греховных животных, проклятых Богом».
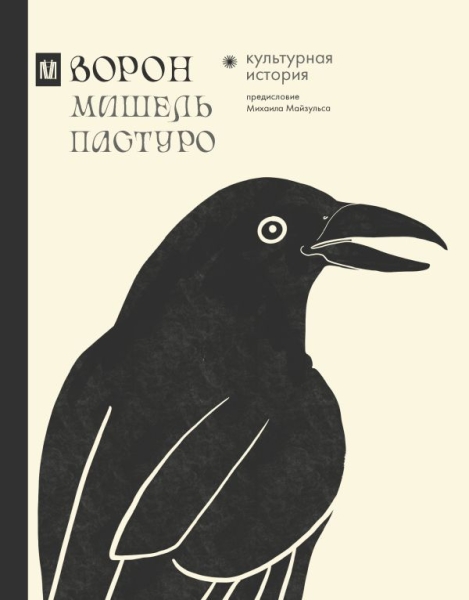
Мишель Пастуро «Ворон: культурная история»
Тем не менее и в христианских источниках «нечестивая птица» порой фигурирует как положительный персонаж, например в жизнеописании ветхозаветного пророка Илии, удалившегося в пустыню, где от голода его спасают два ворона: «…каждое утро над ним пролетал ворон и бросал в полы его длинного плаща кусочек хлеба, а вечерами другой ворон точно так же бросал ему мясо (3 Цар. 17:6)». Однако предубеждение против воронов было так велико, что их полезный вклад в историю христианства часто отодвигался в тень: «В Средние века и раннее Новое время эту сцену иногда изображали в монастырских трапезных, однако некоторые обители — или некоторых художников, — видимо, смущали черноперые птицы в роли посланников Господа, поэтому обладающих дурной репутацией воронов иногда заменяли на голубей: как будто Илию в пустыне поддерживал Святой Дух».
Подкармливает ворон и еще двоих уважаемых святых отцов: «Удалившись в пустыню, Антоний узнает, что так же поступил и другой отшельник — Павел Фивейский, которому каждый день ворон приносил половину хлеба. Антоний решил его посетить, и в тот день, когда он пришел и двое святых собрались разделить трапезу, ворон чудесным образом принес целый хлеб». И тем не менее на отражающем этот сюжет витраже Шартрского собора, воспроизведенном среди иллюстраций книги, вместо сомнительного ворона изображен опять-таки более благонадежный голубь.
В качестве одного из главных христианских авторитетов, ополчившихся на ворона, Пастуро упоминает Августина, которого он вообще считает зоофобом: «По мнению Августина, следует четко различать человека, созданного по образу Божьему, и животное, несовершенное творение: несоблюдение же этого различения человеческой и животной природы — тяжкий грех, так что лично его, похоже, животные отвращают и пугают».

Претензии Августина конкретно к ворону заключаются в том, что он «расслышал в карканье ворона латинские слова cras, cras («завтра, завтра») и по этой причине уподобил эту птицу грешнику, который постоянно откладывает на завтра исповедь, раскаяние и покаяние». Августину Пастуро противопоставляет «исключительный казус» Рабана Мавра, аббата Фульдского, а затем архиепископа Майнцского. В трактате «О Вселенной» Рабан полемизирует с цветовыми и звуковыми ассоциациями Августина: «Цвет оперения этой птицы наводит Рабана на мысли не о дьяволе, а о проповеднике. Он, конечно, болтлив, но заботится о спасении душ верующих и призывает их к обращению. Ворон, вопреки тому, что утверждал Августин, говорит не cras, cras («завтра, завтра»), а corax, corax («ворон, ворон»)».
Удивительную симпатию архиепископа к опальной птице Пастуро комментирует не без иронии: «Подобная благосклонность по отношению к ворону — уникальная для каролингской эпохи — выглядит особенно примечательно, если вспомнить, что сам Рабан носит германское имя, происходящее от названия ворона (Hraban/Hrabe), и что его полное латинизированное имя, Rabanus Maurus, буквально значит «черный ворон». Очевидно, рассуждая о символизме животных, непросто осуждать птицу, имя которой ты носишь».
В главе «Война против ворона» Пастуро рассказывает, как в VIII–XII вв. ворон, почитавшийся в Северной Европе как хранитель моряков и воинов, советник и атрибут богов Одина и Вотана, попал в жернова христианской борьбы с языческими пережитками: «Подобно тому, как сотни тысяч деревьев были срублены, вырваны с корнем, как тысячи камней были разбиты, обтесаны, как источники были запружены или превращены в колодцы, как священные места были переделаны в часовни, так же были убиты тысячи медведей и уничтожены в бессчетном количестве вороны». Впрочем, были у Церкви раннего Средневековья и менее жестокие стратегии борьбы с языческими культами ворона, а именно изображение его в качестве друга святого — «человека Божиего». Так, согласно агиографическим сочинениям, ворон спас тело святого Викентия, замученного в 304 году при Диоклетиане и брошенного на съедение диким зверям, а также успел выхватить отравленный завистниками хлеб из рук святого Бенедикта.

Тем не менее все эти богоугодные проявления ворона не могли переломить глубинного, инстинктивного негатива, и в бестиариях XII-XIII веков он предстает «нечистой птицей». Единственным исключением Пастуро считает Ришара де Фурниваля, автора особого, куртуазного «Бестиария любви»: «Ришар перечисляет качества животных не для того, чтобы наставить читателя в религии и морали, а чтобы порассуждать о любви и поведении влюбленных: как завоевать даму, как сохранить любовь, каких ошибок избегать…» В «Бестиарии любви» жуткое обыкновение ворона выклевывать глаза мертвецам трансформируется в метафору, которую Пастуро хвалит за элегантность: «…найдя где-либо человека мертвым, ворон первым делом выклевывает ему глаза, а затем через глазницы извлекает мозг и не останавливается, пока весь мозг не вытянет. Таково же действие любви. При первом знакомстве уловляет она человека посредством глаз, и никогда бы любовь не завладела им, не будь у него зрения». И правда, де Фурнивалю не откажешь ни в образном мышлении, ни в понимании психологии межполовых отношений: женщина, сначала бросившись мужчине в глаза, впоследствии нередко выедает ему мозг, как голодный ворон.
Прожорливость, помешавшая ворону выполнить поручение Ноя, упоминается в длинном списке приписываемых демонической птице пороков, который Пастуро суммирует из средневековых бестиариев: «Ворон — гордец: он считает себя самой прекрасной из птиц, хотя на самом-то деле является одной из самых отвратительных. <…> Наконец он лицемер: ворон притворяется глупым, но на самом деле полон злобы и хитрости. Свой ум он неизменно обращает на дурные дела и развлекается, обманывая людей и других птиц, а иногда и более крупных животных». Именно невероятную сообразительность ворона Пастуро в итоге объявляет главной причиной древнего человеческого убеждения к слишком мозговитому пернатому: «Никто не проговаривает это прямо, но очевидно, что все крестьяне об этом задумывались и задавались вопросом, не мог ли ворон заключить договор с дьяволом? Как иначе объяснить, что простая птица, не слишком большая, может обнаруживать такой ум, обходить все ловушки, адаптироваться к любой ситуации, предвидеть поведение животных и людей?»

В финале книги приводятся неприятные цифры: отношение массы мозга к массе тела у ворона составляет 37–38, в то время как у человека — 21, а у шимпанзе — 8, да и вообще перечень когнитивных способностей ворона, оставляющего далеко позади большинство животных и птиц, в итоге заставляет и самого Пастуро уважительно признаться: «Ворон — не только посредник между небом и землей, между жизнью и смертью, он еще и мистификатор. Он способен провести кого угодно: животных, людей, богов. Иногда справиться с ним не под силу даже историку».