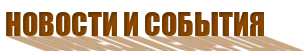Вильгельм кричал нечеловеческим голосом: секреты звукорежиссеров в кино
Работа со звуком как источник кинематографической выразительности

EN

Звукорежиссер с 30-летним стажем Елена Маслова написала практически исчерпывающий путеводитель по всем этапам кинопроизводства, в которых задействован звукорежиссер, включая подготовительный, съемочный и монтажно-тонировочный периоды (последний сейчас принято называть постпродакшеном или просто постом). Критик и однофамилица Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».
Елена Маслова
«Звук в кино: Как создаются иллюзии»
М. : Альпина нон-фикшн, 2025. — 320 с.
Именно на звукорежиссера автор книги прежде всего возлагает миссию управления, манипулирования зрительскими эмоциями — первая глава называется «Как вызвать переживания зрителя» и раскрывает кое-какие хитрые способы, с помощью которых «звукорежиссер заставляет нас услышать то, что он хочет».
На конкретных примерах звукового оформления той или иной сцены Маслова обрисовывает суть профессии звукорежиссера в двух словах, понятных и читателю, далекому от мира кино: «То, что слышали члены съемочной группы во время записи сцены, и то, что слышит зритель фильма, не всегда одно и то же. Звук в фильме точнее, он выполняет свою особую роль и звучит эмоциональнее, потому что ему придают определенный характер, оперируя профессиональными приемами и инструментами». Опытный кинозритель при этом может припомнить, как раздражает порой неталантливо и небрежно подобранный звуковой ряд фильма, излишне разжевывающий и так уже понятую режиссерскую мысль или слишком навязчиво выжимающий из тебя нужную эмоцию.

Елена Маслова «Звук в кино: Как создаются иллюзии»
Маслова, разумеется, строит свою книгу в основном на примерах высокого мастерства, изобретательности и трудолюбия своих коллег, начиная с дебютной картины Роберта Редфорда «Обыкновенные люди» 1980 года, где съемки эпизода в кабинете психиатра проходили на складе возле аэропорта — видимо, другого места не нашлось по каким-то финансовым или техническим причинам. В результате на монтаже диалогов звукорежиссеру пришлось совершить профессиональный подвиг, несколько недель вычищая из 10-минутной беседы психиатра с пациентом складские шумы и звук пролетающих самолетов.
Этот случай упоминается в книге дважды — сначала в главе «Подготовительный период: начало работы звукорежиссера над фильмом», где среди прочего речь идет о желательности тщательного выбора локаций именно с точки зрения звукозаписи. В реальной практике, как пишет Маслова, «на выбор натуры звукорежиссер может не поехать и ограничиться осмотром локации уже на месте перед съемками. Это зависит от разных причин: от постановочной сложности картины, взаимоотношений людей в группе, бюджета и от страны съемок. Но отсутствие звукорежиссера на выборе натуры может отразиться в дальнейшем на качестве чистовой записи звука».

А второй раз пример из фильма Редфорда пригождается уже в главах, посвященных съемочному периоду и работе звукооператоров на площадке, а точнее в шестой главе «Черновая и чистовая запись звука». Именно здесь происходит, можно сказать, эмоциональная кульминация книги, когда Маслова мужественно признается в собственной ошибке, стоившей культовому фильму Рашида Нугманова «Игла» ценного актерского эпизода. «Некоторые эпизоды фильма Рашид строил на импровизации, используя принцип документального кино, описанный в книге Дзиги Вертова «Жизнь врасплох», — рассказывает Маслова. — Поэтому дублей для таких сцен не делали и актерских репетиций не проводили».
В одной из сцен король импровизации Александр Баширов, играющий в «Игле» эксцентричного бандита Спартака, произносит длинный монолог-экспромт, лежа на дне пустого бассейна, засыпанного осенними листьями. «Это был практически подсознательный поток слов, не написанный в сценарии. Баширов обладает такой способностью — создавать странную притягательность своими, казалось бы, бессвязными резкими высказываниями», — метко описывает Маслова природу башировского дарования. Однако теперь мы можем только догадываться и воображать, какие перлы выскакивали в тот момент из подсознания актера, потому что ассистентка звукорежиссера забыла проверить, сколько пленки у нее осталось в катушечном магнитофоне швейцарской фирмы Nagra, и от гениального, неповторимого дубля осталось только изображение — его фрагмент можно увидеть в одной из сцен перед финальными титрами «Иглы».

Завершая этот драматический эпизод, от воспоминания о котором у нее до сих пор сжимается сердце, Маслова делает педагогический вывод: «Я взрослый человек и знаю, что каждый учится на своих ошибках, но вдруг случится чудо и тот, кто прочтет эту книжку и станет звукорежиссером, не повторит мою?!» Увы, человеческая предусмотрительность имеет довольно скромные пределы, но для их расширения и в назидание потомкам, конечно, стоит включить в учебники звукооператорского мастерства описанную Масловой промашку под кодовым названием «Безмолвие Спартака». Звуковики, судя по книге Масловой, вообще, как шпионы, любят условные кодовые обозначения, скажем, различных шумов, собранных в специальной мосфильмовской фонотеке на всякие художественные случаи. Один из них, например, называется «Ветер в доме Храмовских» и характеризуется «завывающей и пугающей фактурой», хотя теперь довольно трудно установить, что это за инфернальные Храмовские и из какого произведения они взялись.
Зато хорошо известно происхождение знаменитого вопля, известного любителям кино под названием «Крик Вильгельма» и впервые прозвучавшего в вестерне 1951 года «Далекие барабаны», где одного из малозначительных персонажей хватает крокодил. В фонотеке Warner Brothers крик первоначально назывался «Мужчину укусил аллигатор, и он кричит», после чего он очень полюбился кинематографистам, а где-то на третий раз использования навсегда приклеился к персонажу по имени Вильгельм. Популярность крика еще более возросла после использования его в «Звездных войнах»: саунд-дизайнер Бен Берт процитировал этот крик, по мнению Масловой, чтобы отдать «дань наследию великих дней звуковых фильмов Голливуда». Надо сказать, что этот леденящий отголосок голливудского золотого века и по сей день не утратил своеобразного обаяния. Отстоявшись с годами, крик несчастного Вильгельма только приобрел дополнительную прелесть: она заключается в том, что в настоящее время он уже ни на какие зрительские эмоции воздействовать не стремится, а апеллирует исключительно к синефильскому чувству юмора.